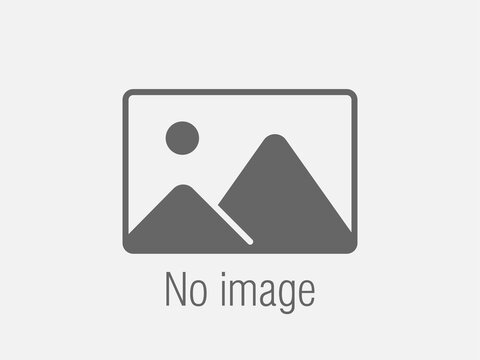 Имена-обереги у башкир Категория объекта:
Мифологические верования, этнографические комплекс
Этнокультурная принадлежность:
башкиры
Анкета утверждена:
26.03.2025
Номер объекта:
19-020
Автор-составитель анкеты:
Ибрагимова Альфия Газизовна
ведущий методист отдела по работе с нематериальным этнокультурным достоянием Республиканского центра народного творчества
ОписаниеОберег – это предмет, наделяемый способностью защищать его владельца от различных бедствий, приносить удачу. В качестве Оберега использовались амулеты, бетеу, талисманы, растения, части оружия, одежды и др. Различные формы оберегов могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Согласно поверьям, оберег может оградить человека от сглаза, болезней, в особенности в те моменты, когда он считается наиболее уязвимым (младенец, женщина до родов, жених и невеста на свадьбе), скот – от падежа и хищников.Справочная информацияОписание
Имянаречение у башкир – важнейшая
составляющая духовной жизни народа, «этап приобщения человека к родовой
культуре, обряд, санкционирующий членство его в обществе»[1],
поэтому сам акт именовался не иначе как свадьба, торжество: исем туйы (букв. свадьба/празднество
имени). У башкир имя использовалось не только в номинативной функции; оно
являлось своеобразным оберегом от злых духов[2]. Считалось, что
новорожденного даже на час нельзя оставлять без имени, так как безымянного
ребенка может подменить нечистая сила. В этом случае ребенок может
заболеть или умереть. Поэтому уже с момента рождения младенца нарекали
определенным именем: повитуха говорила в ухо младенцу его первое имя (йүргәк исеме – пеленочное имя, кендек исеме – пуповое имя, тәүге исем – первое имя). На третий,
седьмой или сороковой день после рождения – сакральные отрезки времени с
семантикой полноты, целостности, предела, но не позже сорока дней – ребенку
давали ысын исем – настоящее имя.
Более того, имя должно было даваться каждому ребенку, даже умершему сразу после
рождения или мертворожденному. По представлениям башкир, погребенные без имени
новорожденные «в виде демона Атһыҙ (т.е. безымянный) блуждают вблизи дома родителей, в лесу, на
кладбище, плачут и просят имя. Если на кладбище слышится детский плач, говорят,
что ребенок погребен без имени».[3] Считалось, что нечистая сила, колдуны через имя могут наслать
порчу (подобное представление широко распространено и в других культурах, в
частности, в славянском фольклоре). По представлениям башкир, дабы уберечь
ребенка от влияния всяческих злых сил, перед Богом человек должен носить одно
имя (мулла ҡушҡан исем – имя, данное
муллой), в миру – другое (мин балама
икенсе исем ҡуштырҙым – я дал своему ребенку другое имя). Существует вера в
то, что если на кого-либо захотят навести порчу, она не достигнет цели, так как
будет искать человека с другим именем. Поэтому порча, не найдя своей цели,
возвращается и настигает того, кто ее наслал. Этот способ охранительной магии
существует до сих пор и очень широко распространен. Несколько трансформирован
лишь субъект, насылающий дурное: если раньше это были злые духи, то теперь это
– недобрые люди. Таким образом, в языковом сознании башкир хранится важный
философский смысл: имя человека не есть его сущность, его нельзя отождествлять
с человеком; имя давалось человеку не на всю жизнь; первое «пеленочное» имя
заменялось именем, нарекаемым муллой. Возрастная инициация юношей также
сопровождалась сменой имени[4], которая предполагает
перемену в судьбе, перемену статуса человека. По поверьям, поменяв имя, можно
было излечиться от болезни, т. е. обмануть болезнь. Сравнительно-историческое исследование значений отдельных личных
имен на общетюркском фоне проводилось с опорой на данные, извлеченные из
«Древнетюркского словаря» и «Башкирских шэжэрэ» Р. Г. Кузеева. На основе трудов этнокультурной направленности не только в области
тюркских народов, но и восточных славян, было установлено, что происхождение
многих охранительных имен связано с обрядом купли-продажи ребенка, в частности,
это имена на основе лексем «һатыу» (продавать),
«түләү» (платить), «табыу» (находить), «ҡал» в значении (не умер, остался), в которую вложено значение «йәшәһен», «үлмәһен» (пусть живет,
останется). Защищенным, по мнению древних башкир, считался и тот ребенок,
который, по условиям старинного обряда, пролежал в собачьей конуре рядом с ее
хозяином и был наречен именем, содержащим в своей основе лексему «эт» (собака). Защитными силами, по
мнению древних башкир, обладали также и названия камней и минералов, такие как,
«алтын» (золото), «көмөш» (серебро), «булат» (булат) и, конечно же, «тимер»
(железо), на которое обменивали ребенка во время мнимой купли-продажи. В целях защиты от злых сил у древних башкир существовала также
традиция нарекания ребенка плохим именем (к примеру, Боҙоҡ, Яманбай и т. д.). В особую группу выделяются и
охранительные личные имена с компонентом «иш»
(пара), которым нарекали детей, если предыдущие их братья либо сестры не
выживали. Другой способ охранения ребенка от дурного
глаза и злых духов представляет наречение ребенка именами Эталмаҫ (собака не возьмет). Если в
семье раньше не было детей, то долгожданному ребенку, веря в магическую силу слова,
давали такие имена, как: Үлмәҫбай (не умрет + бай), Торон (пусть
живет); когда в семье рождались только девочки, а родители ждали мальчика, то,
чтобы устранить влияние нечистых сил, девочкам давали имена: Яңылбикә (обновись), Яңыл.[5] Названия диких и домашних животных занимали
значительное место в общем именнике башкир. Эти имена, очевидно, возникли в тот
период, когда люди верили в магическую силу слова (имени) и старались придать
имени то качество, которое хотели видеть в своем ребенке: здоровье, крепость,
силу, ум, находчивость и др. Поэтому преимущественно применялись в качестве
имени названия сильных, могущественных зверей: Арслан (лев), Юлбарыҫ (тигр) и тотемных животных, как Айыусы, Айыухан (медведь), Бүребай (волк), Төлкөсура (лиса), Һеләүhен (рысь). Но никогда не называли ребенка именем ҡуян (заяц), көҙән (хорек), йомран
(суслик) и т.п. Они встречаются сейчас в качестве родовых подразделений или
уничижительных прозвищ. Среди прирученных животных особое место
занимает собака (эт) и щенок (көсөк). Это имена-обереги. Они сохранились сейчас
только в фамилиях, хотя их носители свои фамилии переименовывают на русский
лад, чтобы избежать отрицательных восприятий (Итбаев, Иткулов, Итдимасов) и
кучук (Кучуков, Аккучуков, Иткучуков, Кучукбаев, Кучуккулов) и др. Тем самым
стирается истинный смысл древнего имени. Встречаются больше всего общие наименования
животных, как Йылкыбаев (от слова йылҡы «конь»), Малбаев (от слова мал
«скот»). Но башкиры никогда не давали имени үгеҙ (вол), һыйыр (корова), бейә (кобыла) и т.п., хотя в
русских именах их сплошь и рядом. В составе древних имен имеются названия
детенышей животных: Ҡолонбай (жеребенок), Ҡонанбай (двухлетний жеребенок), Ҡуҙы, Ҡуҙыбай (ягненок). Только в фамилиях сохранились названия видов верблюда:
Нартайлаков (нар+тайлаҡ «двухгодовалый жеребенок одногорбого верблюда»),
Нарбутов (нар+бута «детеныш
одногорбого верблюда»). В именовании своих детей названиями детенышей
животных выражаются также особо почтительное отношение к этим животным и
тотемистические взгляды. Кстати, наименования растений не имеют места в
именнике башкир.[6] [1]
Султангареева Р. А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. Уфа
: Гилем, 1998. [2]
Батыршина Г. Р. Лексика родинного обряда башкир (этнолингвистический анализ).
Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН, 2011. [3]
Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. М. : Наука, 2010 [4]
Бикбулатов Н. В. Башкирская система родства. М. : Наука, 1981. [5] Раемгужина З.М. Башкирский
антропонимикон в свете языковой картины. 2009г. [6] Мавлетов
В.С. Благославенный край, учебное пособие для учащихся, Уфа, ГУП «Уфимский полиграфкомбинат»,
2005г.; Современное бытование
Именник всегда подвижен, постоянно меняются
его состав и формы. А значит, движение башкирского именника имеет тенденцию к
краткости, звучности и абстрагированности по смыслу. Все охранительные личные имена, являющиеся
отражением обряда купли-продажи младенца, например, а также веры народа в силу
слова, в настоящее время бытуют в основном лишь в фамилиях. Источники сведений
1.
Султангареева Р. А. Семейно-бытовой обрядовый
фольклор башкирского народа. Уфа : Гилем, 1998. 2.
Батыршина Г. Р. Лексика родинного обряда башкир
(этнолингвистический анализ). Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН, 2011. 3.
Ягафарова Г.Н. Фольклорные имена: о чем они
говорят. Электронный научный архив УрФУ, 2016 4.
Мавлетов В.С. Благославенный
край, учебное пособие для учащихся, Уфа, ГУП «Уфимский полиграфкомбинат»,
2005г. 5.
Хисаметдинов Ф.Г История и культура
Башкортостана: Учебное пособие для учащащихся ср. спец.уч.з.-2-е изд. и доп.-
Уфа: Галем 2003 г.; 6.
Хисамитдинова
Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. М. : Наука, 2010 7.
Бикбулатов Н. В. Башкирская система родства.
М. : Наука, 1981. 8.
Авакова Р. А., Бектемирова С. Б. Отражение
образа собаки в тюркских и славянских языках / Вестник РГГУ № 8/09. М.: 2009.
С. 41–48. 9.
Кусимова Т. Х., Бикколова С. А. Башкирские
имена. Уфа: Китап, 2005. 224 с. 10. Сулейманова Р.А. Башкирские фамильные онимы,
образованные от апотропеических личных имен. // Томский журнал лингвистических
и антропологических исследований (Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology). 2021. Вып. 4 (34). С. 180-188 11. Раемгужина З.М. Башкирский
антропонимикон в свете языковой картины. 2009г. Организации, имеющие отношение к ОНКН
ГБУК РБ Республиканский центр
народного творчества, отдел по работе с нематериальным культурным наследием. |